Прямой эфир
скрыть
 Yaricka
20 минут назад
Yaricka
20 минут назад
 Ulyana
28 минут назад
Ulyana
28 минут назад
 Акроним
42 минуты назад
Акроним
42 минуты назад
 Татьяна Орловская
54 минуты назад
Татьяна Орловская
54 минуты назад
 Akshyn
1 час назад
Akshyn
1 час назад
 Татьяна Юмашева
1 час назад
Татьяна Юмашева
1 час назад
 Nochka
1 час назад
Nochka
1 час назад
 Classic
2 часа назад
Classic
2 часа назад
 Nobel
2 часа назад
Nobel
2 часа назад
 Пингвин
2 часа назад
Пингвин
2 часа назад
 Maria ...
2 часа назад
Maria ...
2 часа назад
 Татьяна Орловская
2 часа назад
Татьяна Орловская
2 часа назад
 Splushka88
2 часа назад
Splushka88
2 часа назад
 Splushka88
2 часа назад
Splushka88
2 часа назад
 Майя М.
2 часа назад
Майя М.
2 часа назад
 Tatiana Drogan
2 часа назад
Tatiana Drogan
2 часа назад
 Александр Макаров
3 часа назад
Александр Макаров
3 часа назад
 Nobel
3 часа назад
Nobel
3 часа назад


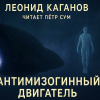



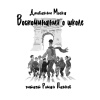





Чехов — единственный российский классик, который не написал ни одного романа. Всего им было написано около 900 произведений. Самые известные — рассказы «Палата № 6», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», повесть «Драма на охоте», пьесы «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка».
Дед писателя был крепостным, но за годы своей жизни он смог добиться своего освобождения, получил свободу и выкупил всю семью.
Окончив медицинский факультет Московского университета, Чехов стал практикующим врачом и считал, что его основное дело — лечить людей. В одном из писем он шутливо по форме, но вполне серьезно по сути, утверждал: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница». Докторская табличка исчезла с двери Чехова в январе 1886 года. Причиной тому стала не только литературная нагрузка, но и тяжелый случай из врачебной практики –две его пациентки, мать и сестра художника Янова, умерли от тифа.
После поездки по Сахалину в 1890 году Чехов писал: «Брошу даже медицину… отдал уже ей дань в виде книги о Сахалине». Но в действительности Чехов продолжал быть врачом всю свою жизнь. Даже перед смертью, весной 1904 года, писал из Ялты знакомому: «Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом».
Чехову очень нравилось подписывать свои рассказы забавными именами. Их известно более 50. Например: Брат моего брата, Крапива, Человек без селезенки, Шиллер Шекспирович Гете, Врач без пациентов. Самым известным был — Антоша Чехонте.
Чехов входит в тройку мировых писателей, которых наиболее экранизируют. Первое место занимает Шекспир (768 экранизаций), второе место Чехов разделил с Диккенсом (по 287 экранизаций). Он единственный русский писатель, который попал в десятку рейтинга.
Многим героям Чехова были установлены памятники. Так, в Челябинске — Каштанке, в Таганроге — Человеку в футляре, в Ялте — Даме с собачкой. Интересно, что музей Чехова существует даже в Шри-Ланке, где останавливался писатель, возвращаясь с острова Сахалин в Одессу.
Антон Павлович Чехов был непревзойденным мастером афоризмов и крылатых фраз. Одна из самых известных — «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Подобная же мысль была в «Рассказе старшего садовника»: «Веровать в бога не трудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!» И это тоже по понятным причинам было изъято цензурой.
Рассказ замечательный, стилизация под средневековые новеллы, уход в прошлое, чтобы выразительнее высказаться о современном.
Мне же в осени дорого одно — проживание распада, конечности всего. Стыло, неуютно, одиноко, ты никому не, ты вне, ты не… Полное отречение, отвержение, отвращение. Ступать по дну… с каждым шагом всё сильнее чувствуя приближение радостного, будоражащего ум и нервы времени. Зима — ей единственной верно моё сердце, о ней поёт, с ней летает и льнёт к звёздам моя душа, её жду нетерпеливо-беззастенчиво!
Оттого и люблю ноябрьские ледяные вечера, когда всё черно — небо, деревья, дома, силуэты людей, на всём лежит печать пепла огненнокрылого.
Тёплый и солнечный получился сборник, но один стих выбился из озорного шуршания листьев, выкатился из мебельных шариков каштана и лёгкого интеллигентского минора, из общей леденцовой россыпи — сверкнул.
«Дозволены только золото и бирюза»… да ты что, да ладно! ну тогда возьму обсидиан и серебро — сочетание чёрного и серебряного вечно, оно милостиво настаивает на необходимости других цветов и оттенков, но неизменно царствует на небе, земле и в изнанке мира, замирая в знаках сакральных текстов, оживая пляшущими тенями древних мистерий.
Если бы в детстве я рисовала осень не так, как учили в художке, это был бы любимый ч/б, серое небо, чёрные стволы, уносящие ввысь ожидание чуда, строгие узоры ветвей, качающихся в дыхании северного ветра, серый перламутр раковины с солнцем, серебро раннего инея на травах и камнях.
Без чёрного нет осени, а искусственный краситель жёлто-оранжевого бон-пари коктейля остался в том зябком классе, на тех неподъёмных стульях и мольбертах, в бездарных акварельках, мокро вытащенных из-под моей кисти (в огонь бы их).
Благодарю, дивный Менестрель, за неугасающее стремление творить и тут же отдавать сотворённое.
Лепестки прошлогодней фиалки, скользнувшей из книги, растёрла в пальцах словно приправу…
Об этой истории вся Москва судачила. Ещё бы: ведь Левитан был моложе Кувшинниковой более чем на 10 лет. А Кувшинникова, будучи замужней дамой, своей влюблённости не скрывала, проводила с художником всё свободное время, а потом вообще на всё лето уехала на Волгу, писать этюды.
Кувшинникова всегда собирала вокруг себя выдающихся деятелей тех времён. В своей квартире она организовала литературный и художественный салоны. Сюда по вечерам съезжались поэты, писатели, художники, общественные деятели. Её муж Дмитрий Павлович Кувшинников немного терялся в столь великолепной компании и предпочитал проводить время или на работе, или в своём кабинете. Чехов был частым гостем в этом доме и видел всех действующих лиц этой истории своими глазами.
Рассказ «Попрыгунья» всех возмутил. Современники утверждали, что Софья Петровна была гораздо глубже и интереснее литературной героини. Её творческие увлечения не были столь поверхностны. Она великолепно играла на фортепиано, её картины участвовали в выставках, а одна из работ даже была приобретена Павлом Третьяковым. Однако Чехов посмеивался и над квартирой, нелепо стилизованной под салон, и над самой хозяйкой с её несвоевременной влюблённостью. Говорят, что после публикации рассказа, Левитан хотел вызвать Чехова на дуэль, но благодаря вмешательству друзей всё обошлось. Спустя три года Чехов с Левитаном помирились. А вот отношения с Софьей Петровной Кувшинниковой были испорчены навсегда, с Чеховым она больше не общалась.